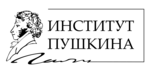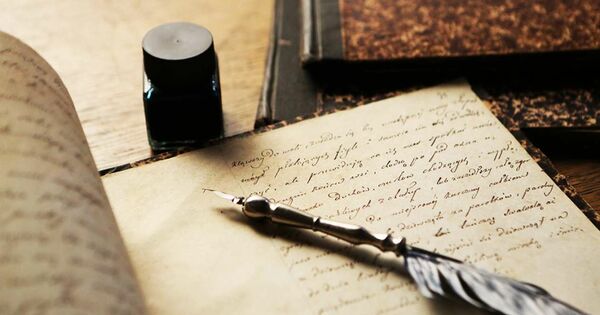
Изображение: mirkosmosa.ru
Удивительное свойство русской литературы – способность впитывать и перерабатывать мировые идеи, смыслы и образы и при этом не терять своей «самости», идти и развиваться по собственной траектории. Внимание к произведениям всемирной литературы, интерес к творчеству иноплеменных поэтов стали ярко проявляться еще в XVIII веке, когда русские стихотворцы взялись за переложение европейской поэзии. В то время считалось, что ни авторство, ни оригинальность структуры стиха не важны. «Что нужды читателям, мое ль они, или чужое от меня читают, только б им читать приятное, важное и полезное, а не шпынское, пустое и сатирическое», - писал В. Тредиаковский. Существеннее всего – смысл. Если удалось его передать (а еще лучше развить авторскую мысль), используя лексический и синтаксический потенциал русского языка, то дело сделано. Литературовед Г. А. Гуковский, характеризуя принципы вольных стихотворных переложений XVIII в., замечал, что русские поэты-переводчики не прочь были «прибавить новое», к оригинальному тексту, «сделать еще один шаг вперед по пути, на котором остановился автор подлинника, украсить, улучшить оригинальный текст в той мере, в какой это позволяет состояние искусства в момент перевода». Они полагали, что «перевод, изменяющий и исправляющий текст, лишь служит на пользу достоинству последнего».
Справедливости ради следует отметить, что поэт А. Сумароков придерживался иного мнения: «Когда переводить захочешь беспорочно, … творцов мне дух яви и силу точно». Стараясь задать вектор художественному слову, А. Сумароков рассуждал и поучал:
Такой нам надобен язык, как был у греков,
Какой у римлян был, и, следуя в том им,
Как ныне говорит Италия и Рим,
Каков в прошедший век прекрасен стал французский,
Иль наконец сказать, каков способен русский!
В полном соответствии с утверждением М. В. Ломоносова о том, что язык российский способен иметь «великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, … богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка», русские поэты-переводчики берутся за дело и перелагают на родной язык лучшие образцы европейской поэзии. К счастью, на русский, благодаря его гибкости и полифоничности, как оказалось, прекрасно можно переложить, и распевные итальянские сонеты, и ритмичные немецкие баллады, и французские музыкальные стихи, и греческий торжественный гекзаметр. Примером удачной стилизации может служить знаменитая «Тилемахида» В. К. Тредиаковского, стихотворное переложение французского романа Ф. Фенелона «Приключения Телемаха, сына Улисса» (1699 г.).
Буря внезапно вдруг возмутила небо и море.
Вырвавшись, ветры свистали уж в вервях и парусах грозно,
Черные волны к бокам корабельным, как млат, приражались:
Так что судно от тех ударов шумно стенало.
То на хребет мы взбегаем волны, то низводимся в бездну,
Море когда, из-под дна разливаясь, зияло глубями,
Видели близко себя мы камни остро-суровы.
И стиль, и выбор лексики, и образность, и ритмика – всё это заслуживает похвал. Пушкин, давая оценку титаническому труду В. К. Тредиаковского, писал: «Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие… Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. В „Тилемахиде” находится много хороших стихов и счастливых оборотов».
В поэзии XIX века немало образцов таких произведений, которые благодаря мастерству переводчиков воспринимаются как истинно русские. Одним из самых талантливых в ряду поэтов-переводчиков по праву считается В. А. Жуковский, автор знаменитого утверждения «Переводчик в прозе – раб, переводчик в стихах – соперник». Следуя этому принципу, Жуковский наряду с незаурядным талантом проявлял при этом удивительный такт и стремился к достижению баланса, обеспечивающего гармоничное слияние двух авторских Я. В своём письме к Н. В. Гоголю он так высказывался по этому поводу: «У меня почти всё чужое или по поводу чужого, — и всё, однако, моё». Этот феномен тонко чувствовавшим Гоголем тоже был отмечен: «Не знаешь, как назвать его, — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов... Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем... Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу всё, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами».
Переводил Жуковский с английского, немецкого, итальянского языков, знакомя читателей с творчеством Гете, Шиллера, Скотта, братьев Гримм… Он перевел байроновского «Шильонского узника», создал стихотворный перевод немецкой повести Фуке «Ундина», переложил на русский язык «Одиссею» Гомера... Возможно, успех переводов Жуковского объясняется еще и его восприимчивостью к мелодике переводимого произведения, к умению не только её почувствовать, но и воспроизвести средствами русского языка. Г. А. Гуковский об этом так писал: «Жуковский создает музыкальный словесный поток, качающий на волнах звуков и эмоций сознание читателя; в этом музыкальном потоке, едином и слитном, как и единый поток душевной жизни, им выражаемый, слова — это ноты». Почувствовать слиянность смыслов и мелодики можно на примере отрывка из «Шильонского узника»:
Вдруг луч внезапный посетил
Мой ум... то голос птички был.
…………..
Как прежде, бледною струей
Прокрадывался луч дневной
В стенную скважину ко мне...
Но там же, в свете, на стене
И мой певец воздушный был:
Он трепетал, он шевелил
Своим лазоревым крылом;
Он озарен был ясным днем;
Он пел приветно надо мной...
Как много было в песне той!
И все то было - про меня!
Ни разу до того я дня
Ему подобного не зрел!
Как я, казалось, он скорбел…
Стихотворцы XVIII-XIX вв. – почти сплошь поэты-полиглоты, а потому не удивительно их обращение к античной и европейской поэзии. Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Батюшков, Лермонтов и многие другие и переводили, и стилизовали образцы всемирного стихосложения. На рубеже XIX и XX веков эта тенденция только усилилась: русские стихотворцы активно обращались к творчеству зарубежных авторов, интересовались европейскими поэтическими и философскими манифестами, стараясь идти в ногу со временем и при этом сохранять традиции русского литературного перевода.
Одним из активных переводчиков западноевропейской литературы можно считать К. Д. Бальмонта, переложившего на русский язык творения Гейне, Ленау, Мюссе, Ибсена, Шелли, а также древние философские трактаты и некоторые фольклорные тексты, в том числе индийские, китайские, японские, армянские, литовские, чешские, болгарские и др. При таком разбросе точность трудно соблюсти, и потому не удивительно, что Бальмонта критиковали. Например, дотошный К. И. Чуковский по поводу переводов Уитмена Бальмонтом заметил: «Положительно г. Бальмонт не чувствует языка, с которого переводит. В трех строчках перевода он сделал пять грубейших ошибок, – и, благодаря этим ошибкам, создал характеристику Уитмана, весьма далеко отстоящую от подлинной». Дело в том, что Чуковский тоже переводил этого же автора, потому творческая ревность объяснима. А. А. Блок пытался дать объективную оценку и в статье о русской критике отстаивал право поэта-переводчика на некоторые вольности: «Допускаю, что и переводы Чуковского ближе к подлиннику, чем переводы Бальмонта, допускаю, что и облик Уитмана Чуковский передает вернее, чем Бальмонт, но факт остается фактом: переводы Бальмонта (хотя бы и далекие) сделаны поэтом, облик Уитмана, хотя бы и придуманный, придуман поэтом; если это и обман – то “обман возвышающий”, а изыскания и переводы Чуковского склоняются к “низким истинам”». Сам Бальмонт по этому поводу высказался следующим образом: «Переводы – неизбежность, и поэта, знающего много языков и любящего языки чужих стран и певучий язык Поэзии, влечет к себе искусство перевода. Это – соучастие душ, и поединок, и бег вдвоем к одной цели. Дать в переводе художественную равноценность - задача невыполнимая никогда. Произведение искусства, по существу своему, единично и единственно в своем лике. Можно дать лишь нечто приближающееся больше или меньше».
Попытку Бальмонта выразить свое отношение к «созвучному» собрату можно наблюдать на примере его стихотворного обращения «К Шелли». Этого английского поэта он сравнивал с «облаком и ветерка дыханьем» и посвятил ему такие строки:
Мой лучший брат, мой светлый гений,
С тобою слился я в одно.
Меж нами цепь одних мучений,
Одних небесных заблуждений
Всегда лучистое звено.
И я, как ты, люблю равнины
Безбрежных стонущих морей,
И я с душою андрогины,
Нежней, чем лилия долины,
Живу как тень среди людей.
И я, как свет, вскормленный тучей,
Блистаю вспышкой золотой.
И мне открыт аккорд певучий
Неумирающих созвучий,
Рожденных вечной Красотой.
Такое благодарное посвящение поэту, вдохновившему своим творчеством на перевод его стихов, в литературе встретишь не часто. Это поэтическое послание говорит и о силе чувств переводчика, и об особой его признательности за ощущение всемирного, надмирного единства.
Поскольку поэты Серебряного века (Блок, Брюсов, Бальмонт, Белый, Анненский, Гумилев и мн. др.) активно переводили, то возникла в конце концов необходимость создания некоего кодекса переводчиков, свода правил, на которые следовало опираться в работе. За дело взялись Гумилев и Чуковский. Они входили в Коллегию экспертов издательства «Всемирная литература» и в 1919 году выпустили брошюру «Принципы художественного перевода», в которой Чуковский давал рекомендации в статье «Переводы прозаические», а Гумилев выразил свою точку зрения на то, что такое «Переводы стихотворные». В частности, поэт настаивал на соблюдении числа строк, метра и размера, способов рифмовки, выбора особой лексики и сохранения тональности оригинального текста.
Эти принципы легли в основу работы следующей плеяды поэтов, не только создавших прекрасные образцы переводной литературы, но и внесших значительный вклад в теорию перевода. С. Маршак, М. Лозинский, О. Мандельштам, М. Гаспаров, П. Антокольский, Б. Пастернак, В. Набоков своим творчеством продемонстрировали, как поднять технику перевода до высоты истинного искусства. При этом у каждого был свой взгляд на проблему. И. Бродский, говоря о необходимости сохранения «структуры оригинала» и соблюдения «эстетического баланса», существующего в авторском тексте, призывал переводчиков постараться «различными средствами воссоздать в переводе это равновесие». М. Гаспаров мог сократить оригинальный текст вдвое. М. Лозинский сравнивал перевод с управлением яхтой, когда «можно идти галсами, забирая ветер в парус то с одной, то с другой стороны» и эффектно лавировать, но быть очень далеко от курса, а можно идти «почти против ветра», преодолевать сопротивление, и это «гораздо труднее, но курс выдерживается точно». Ученик М. Лозинского переводчик И. Ивановский уверяет: «Если положить рядом с переводом Гамлета, сделанным Лозинским, подлинник и посмотреть, как передается строка в строку каждый интонационный ход, то просто не веришь своим глазам - это невозможно! Но нет, это возможно».
А. Ахматова сказала, что «в трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для ХХ века тем же, чем был Жуковский для века XIX», и тем самым подвела черту под шуточными размышлениями начинающего переводчика о собственном предназначении:
Три года, внук Тредиаковского,
За томом том перевожу
И от занятия таковского
И с рельсов, и с ума схожу.
Роман… роман… роман… комедия…
И даже… даже… как скажу!
О радио-энциклопедия,
Тебе неслыханно служу!
Когда ж, о Муза, утвержу
Себя в прямых правах наследия
И в родословной вместо «Тредиа»
Восстановлю былое «Жу»?
Знатоки утверждают, что М. Лозинскому удалось в своем творчестве достичь уровня «саморастворения», когда в работе над подлинником поэт-переводчик, мастер настолько искусен, что обретает высшую степень свободы. Кроме того, ему удалось в своих текстах сохранить язык русского Серебряного века, богатый, образный, живой.
Работа добросовестного переводчика трудна и кропотлива. Вот как Лозинский говорил о переводе Данте: «Я начал переводить задолго до войны, когда еще служил в Публичной библиотеке, и приходилось переводить по вечерам, после утомительного дня. Очень много времени занимала подготовительная работа: потребовалось множество сведений обо всех упоминаемых Данте лицах и тому подобное. Что знал — нужно было проверить, чего не знал — найти. И так, по зернышку, набралось двенадцать печатных листов комментария». Недаром за перевод «Божественной комедии» М. Лозинский был удостоен Государственной премии I степени, т.к. этот труд по праву считается выдающимся явлением в истории русской поэзии.
Настоящий поэтический перевод – это трудоёмкая работа, способность чувствовать другого и не терять себя, это и талант, и в какой-то мере профессиональное мужество, позволяющее через самоотречение сделать понятным для читателя «и острый галльский смысл, / И сумрачный германский гений».
Автор: Тамара Скок