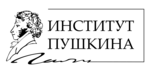Происходящее в СССР весьма интересовало зарубежных писателей, неравнодушных к острым политическим и социальным проблемам времени. Жизнь в новом государстве, совершавшем рывок от патриархальности к индустриализации, а более всего – появление «нового человека» весьма интересовало иностранную аудиторию.

Андрэ Жид и Лион Фейхтвангер
С целью получить представление о жизни в СССР и рассказать об этом со всей объективностью приезжали в нашу страну в разное время Г. Уэллс, Б. Шоу, Р. Роллан, А. Жид, А. Барбюс и др. Журнал «За рубежом» освещал их визиты, публиковал отрывки из травелогов и дневников.
В июне 1936 года журнал «За рубежом» анонсировал приезд в СССР французского писателя Андрэ Жида (инициатором визита был М. Кольцов) и опубликовал отрывки из его «Дневников» и «Листков», снабдив их пафосным предисловием: «Посещение Андрэ Жидом Советского Союза нужно рассматривать как знаменательное событие в идейном движении передовой интеллигенции всего мира… Великие уроки современной истории… привели Жида от конфликта со старым обществом к активному участию в борьбе за новый социальный строй и культуру… Помещаемые отрывки, взятые из “Дневников” и “Листков” Андрэ Жида, охватывают период с 1932 года до последних дней. В этих отрывках ярко выражено отношение А. Жида к СССР, к коммунизму».
В качестве доказательств в журнале были приведены выдержки из записей А. Жида, в которых он провозглашал себя коммунистом, ставя знак равенства между идеальным строем и социальной справедливостью. «Почему я приветствую коммунизм? Потому что я верю, что в настоящее время только при его помощи человек может достигнуть высшей культуры, что коммунизм может и должен способствовать созданию новой и лучшей формы цивилизации». За этим высказыванием скрывается желание Жида видеть человека труда в лучшем положении. Он яростно критикует тех, кто паразитирует на рабочих и крестьянах и, пользуясь результатами их труда, презирает их, считая людьми низшего сорта. Вставая на защиту простого работника, Жид упрекает буржуазию: «Вы довели его до отупения, унизили, испачкали и имеете смелость говорить: видите, как он непригляден… Дайте ему только возможность выйти из невежества, подучиться, расцвести на солнце… Чем он может стать – вот что важно. И этого-то вы и боитесь. Ибо вы отлично знаете, что его неполноценность ему навязана».
То, о чем он так горячо переживал, актуализировалось во время визита А. Жида в СССР. Он жадно вглядывался в лица советских людей, и его восхищало то, что он видел. В своем «Возвращении из СССР» он писал, что, общаясь с рабочими на стройках или заводах, в домах отдыха, в садах, в парках культуры, он испытывал истинную радость. Он чувствовал, как дружелюбны и открыты для общения взрослые и дети, и это до глубины души трогало писателя: «И сколько раз слезы наворачивались на глаза от радости, слезы любви и нежности: например, в шахтерском доме отдыха в Донбассе, недалеко от Сочи… А это внезапное посещение детского лагеря под Боржоми – очень скромного, почти убогого, но где дети сияли здоровьем, счастьем, они словно хотели поделиться со мной своей радостью… Дети во всех пионерских лагерях, которые я видел, красивы, сыты (кормят пять раз в день), хорошо ухожены, взлелеяны даже, веселы. Взгляд светлый, доверчивый. Смех простодушный и искренний… Такое же выражение спокойного счастья мы часто видели и у взрослых, тоже красивых, сильных. "Парки культуры", где они собираются после работы по вечерам, – их несомненное достижение… Толпы молодежи, мужчин и женщин, повсюду серьезность, выражение спокойного достоинства. Ни малейшего намека на пошлость, глупый смех, вольную шутку, игривость или даже флирт. Повсюду чувствуется радостное возбуждение...»
Москва показалась Жиду очень привлекательным, растущим городом, который «живет могучей жизнью». Несмотря на то, что писатель сразу расставил приоритеты, заявив: «Не будем вглядываться в дома – толпа меня интересует больше», быт все-таки постепенно выходит на первый план в заметках взыскательного француза, привыкшего к комфорту. Оценки начинают разворачиваться от восторженных к критическим. Так, на Жида произвели «странное и грустное впечатление» дома колхозников, выглядящие одинаково в своей «абсолютной безликости»: «В каждом доме та же грубая мебель, тот же портрет Сталина – и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые указывали бы на личность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой степени, что колхозники (которые тоже кажутся взаимозаменяемыми) могли бы перебраться из одного дома в другой и не заметить этого. Конечно, таким способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили, радости у них тоже общие. Своя комната у человека только для сна. А все самое для него интересное в жизни переместилось в клуб, в "парк культуры", в места собраний. Чего желать лучшего? Всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех достигается за счет счастья каждого. Будьте как все, чтобы быть счастливым».
В «Возвращении из СССР» Жид проводит параллели между обезличенным бытом и безликим обществом и уходит дальше в своих размышлениях, полагая, что «в СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение». Писатель замечает, что такой конформизм людям Страны Советов не в тягость, «он для них естествен, они его не ощущают». Такое единодушие поколения второй половины тридцатых годов кажется Жиду деградацией по сравнению с их предшественниками: «Действительно ли это те самые люди, которые делали революцию? Нет, это те, кто ею воспользовался». И вот уже советское общество кажется ему толпой, где все на одно лицо и живут по указке сверху: «Каждое утро "Правда" им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может. Надо иметь в виду также, что подобное сознание начинает формироваться с самого раннего детства…»
Жида уже больше не вдохновляют идущие по улицам «сытые и опрятно одетые люди». Он замечает разницу между собственным «хорошо» и «плохо» и тем, что видит вокруг. Он сокрушенно описывает свои впечатления: «Тебе жаль тех, кто часами стоит в очереди, – они же считают это нормальным. Хлеб, овощи, фрукты кажутся тебе плохими – но другого ничего нет. Ткани, вещи, которые ты видишь, кажутся тебе безобразными – но выбирать не из чего». Постепенно Жид переходит к обобщениям и приходит к выводу, что советская пропаганда зомбирует население и работает на то, чтобы «убедить людей, что они счастливы настолько, насколько можно быть счастливым в ожидании лучшего, убедить людей, что другие повсюду менее счастливы, чем они». Достичь этого, по наблюдениям Жида, удается, перекрывая любую связь с внешним миром, с заграницей или выставляя жизнь за рубежом в невыгодном свете. Он удивлялся, когда советские дети спрашивали его, есть ли во Франции школы и детские сады, а получив утвердительный ответ, снисходительно улыбались и говорили со знанием дела, что за границей нещадно бьют, наказывают учащихся. И вот у Жида вырисовывается формула «советского счастья»: «При равных условиях жизни или даже гораздо более худших русский рабочий считает себя счастливым, он и на самом деле более счастлив, намного более счастлив, чем французский рабочий. Его счастье – в его надежде, в его вере, в его неведении... Советский гражданин пребывает в полнейшем неведении относительно заграницы. Более того, его убедили, что решительно всё за границей и во всех областях – значительно хуже, чем в СССР. Эта иллюзия умело поддерживается – важно, чтобы каждый, даже недовольный, радовался режиму, предохраняющему его от худших зол. Отсюда некий комплекс превосходства... Что все рабочие у нас очень несчастны, само собой разумеется, поскольку мы еще "не совершили революцию". Для них за пределами СССР – мрак. За исключением нескольких прозревших, в капиталистическом мире все прозябают в потемках».
Во время своей поездки Жид рассчитывал на личную встречу со Сталиным, но, несмотря на многочисленные просьбы М. Кольцова, аудиенции он так и не был удостоен. Возможно, это тоже в какой-то степени повлияло на изменение мнения французского писателя об увиденном в Союзе.
А. Жид с горечью отмечал, что в СССР «революционное сознание (и даже проще: критический ум) становится неуместным, в нем уже никто не нуждается. Сейчас нужны только соглашательство, конформизм». Словно предрекая волну репрессий, Жид говорит о том, что малейший протест, малейшая критика могут навлечь худшие кары и подавляются в зародыше, и делает неутешительный вывод: «Не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено».
После такого «Возвращения в СССР» Жид был объявлен врагом Страны Советов. Властям срочно понадобилось опровержение, причем из уст того, кто пользовался бы не меньшей литературной славой, чем французский «клеветник». На роль реабилитатора был выбран немецкий писатель Лион Фейхтвангер, который приехал в СССР по приглашению правительства и провел в 1937 году в стране два месяца (редактор журнала «За рубежом» М. Кольцов и к этому визиту имел непосредственное отношение). Результатом этого вояжа стала книга «Москва. 1937». В ней писатель делился своими впечатлениями, рассказывал о встрече со Сталиным и о показательных судебных процессах в СССР. Книга по горячим следам была издана массовым тиражом, но очень быстро исчезла из магазинов и библиотек, потому что все же содержала «мягкую критику» и обнаруживала время от времени «неуверенную, шаткую позицию автора».
Меж тем, заочно споря с Жидом, Фейхтвангер в своей книге писал, что нападки уважаемого француза были обусловлены, скорее всего, «недостатком комфорта»: «Множество мелких неудобств, осложняющих повседневный московский быт и мешающих видеть важное, легко могло привести человека к несправедливому и слишком отрицательному суждению. Я очень скоро понял, что причиной неправильной оценки, данной Москве великим писателем Андре Жидом, были именно такого рода мелкие неприятности. Поэтому в Москве я приложил много усилий к тому, чтобы неустанно контролировать свои взгляды и выправлять их то в ту, то в другую сторону с тем, чтобы приятные или неприятные впечатления момента не оказывали влияния на мое окончательное суждение».
Шаг за шагом Фейхтвангер движется в своем повествовании к тому, чтобы объективно оценить ситуацию в СССР: питание (скудное, но качественное, особенно консервы), одежда (простая и невзрачная, плохого качества, но «овчина и галоши поразительно дешевы»), мало товаров (предложение не успевает за спросом, дело поправимое), общественный транспорт (метро самое красивое в мире, но трамваи переполнены, а такси вообще не найти), жилье (ощущается его острая нехватка, однако вопрос решается)… Много и с искренним восхищением Л. Фейхтвангер пишет о молодой «крестьянской и рабочей интеллигенции», получившей возможность учиться и развивать свои способности. «По статистике западных стран процентная норма студентов, выходцев из крестьян или рабочих, чрезвычайно низка. Отсюда само собой напрашивается вывод, что в западных странах огромное количество способных людей обречено на невежество только потому, что их родители не имеют имущества, в то время как множество неспособных, родители которых имеют деньги, принуждаются к учению. С воодушевлением смотришь, как миллионы людей Советского Союза, которые при существовавших еще двадцать лет тому назад условиях должны были бы прозябать в крайнем невежестве, ныне, когда перед ними открылись двери, с восторгом устремляются в учебные заведения. Советский Союз, поднявший огромные массы лежавших до того втуне полезных ископаемых, обратил себе на пользу также дремавший под спудом могучий пласт интеллигенции. Успех на этом участке был не меньший, чем на первом. С радостной жадностью эти пролетарии и крестьяне с молодыми и свежими мозгами принимаются за изучение новых для них наук, глотают и переваривают их… Я был приятно удивлен, увидев, сколько студентов знают немецкий, английский или французский языки или даже два и три из этих языков».
Под впечатлением от молодой интеллигенции Фейхтвангер во время беседы со Сталиным спросил его о роли этой части общества в развитии Страны Советов. Фейхтвангер старался не задавать острых вопросов, но, судя по ответу вождя, настрой у респондента был боевой. Совершив экскурс в историю, Сталин дал разгромную характеристику межклассовой «прослойке», отведя ей лишь обслуживающую роль. Интервьюер, видимо, смутился, и следующий вопрос был сформулирован так: «В каких пределах возможна в советской литературе критика?» На него Сталин ответил, что критика критике рознь. «Критику деловую, которая вскрывает недостатки в целях их устранения, мы приветствуем. Мы, руководители, сами проводим и предоставляем самую широкую возможность любой такой критики всем писателям. Но критика, которая хочет опрокинуть советский строй, не встречает у нас сочувствия. Есть у нас такой грех».
Это интервью, как и книга Фейхтвангера «Москва. 1937», имело своей целью опровергнуть отдельные выводы Андрэ Жида, а также пояснить некоторые явления, показавшиеся французскому писателю странными, если не настораживающими, например, наличие портретов Сталина в каждой крестьянской избе. Фейхтвангер: «Я здесь всего 4–5 недель. Одно из первых впечатлений: некоторые формы выражения уважения и любви к Вам кажутся мне преувеличенными и безвкусными. Вы производите впечатление человека простого и скромного. Не являются ли эти формы для Вас излишним бременем?» Сталин: «Я с вами целиком согласен. Неприятно, когда преувеличивают до гиперболических размеров. В экстаз приходят люди из-за пустяков… Я хотел бы не оправдать – оправдать нельзя, а по-человечески объяснить, откуда такой безудержный, доходящий до приторности восторг вокруг моей персоны… Видимо… Слишком люди рады, что удалось освободиться от эксплуатации. Буквально не знают, куда девать свою радость… Теперь кабала с трудящихся снята. Огромная победа! Помещики и капиталисты изгнаны, рабочие и крестьяне – хозяева жизни. Приходят в телячий восторг… Что касается бюрократов… Они боятся, если не будет бюста Сталина, то их либо газета, либо начальник обругает, либо посетитель удивится. Это область карьеризма, своеобразная форма “самозащиты” бюрократов: чтобы не трогали, надо бюст Сталина выставить».
Во время визита в СССР Фейхтвангер побывал на показательном Втором московском судебном процессе, где его поразило то, что все обвиняемые доносили на самих себя, а суд брал за основу не факты, а именно эти признания. Во время интервью он задал Сталину вопрос, почему так происходит и получил следующий ответ: «Когда спрашиваешь, почему они сознаются, то общий ответ: “надоело это все, не осталось веры в правоту своего дела, невозможно идти против народа – этого океана. Хотим перед смертью помочь узнать правду, чтобы мы не были такими окаянными, такими иудами”».
Многое в СССР Фейхтвангера не устраивало. Он не был фанатом советского строя. Отправляясь в СССР в роли «Анти-Жида», писатель предвидел самые неприятные для себя последствия. Свой травелог Фейхтвангер воспринимал как осознанно взятую на себя тяжкую ношу. Его обвиняли в корысти, в сознательной лжи, как минимум, в недальновидности и в политической наивности. В письме Г. Манну он признавался: «То, что книжка о России вызовет серьезные обвинения, было предсказуемо. Естественно, немцы кричат, что я был подкуплен. Ах, если бы они знали, как в любом отношении дорого приходится платить за то, чтобы вступаться за Советы». Но почему же он все-таки создал свою книгу в поддержку СССР? Ответ прост: моральная сила людей этой страны, с точки зрения Фейхтвангера, была единственной надеждой на уничтожение фашизма, поработившего и отравившего Европу.
Автор: Тамара Скок
Публикация подготовлена для специальной рубрики «”За рубежом” – на связи с миром», созданной к 95-летию со дня учреждения и к 65-летию со дня возобновления издания «За рубежом». Материалы рубрики позволят отследить взаимодействие писателей разных стран с изданием «За рубежом» и лучше понять роль литераторов в решении социальных проблем своего времени. Статьи и заметки доступны для чтения на портале международного проекта TV BRICS «Современный русский» www.oshibok-net.ru и на сайте www.zarubejom.ru